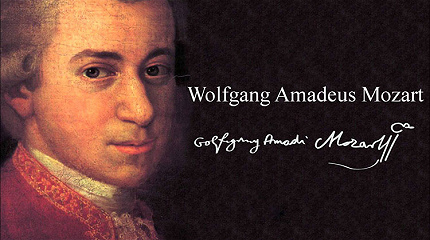Иногда кажется, что явление в музыке Моцарта – как явление первого мыслящего и познающего существа, первого сознания, сделавшего возможным всю предшествующую эволюцию: от неорганики к растениям, рыбам, животным, человеку. Ведь не появись первого созерцающего, то не имело бы никакого значения и все предшествующее, прежнее. И имя бы этому прежнему была бы пустота, ничто…
Венец и нововенец
Вспоминается, как то ли в старших классах, то ли на первых курсах играл фортепианную Фантазию до минор. Играл и не мог понять: почему до минор? Это же Фантазия, как и Симфония Стравинского: in C. Не минор, не мажор, а такая звукоорганизация, где тон «до» представляется некоей формальной основой языка и структуры. Да еще и постоянное ощущение «плывущей», неясной, неопределенной тональности. С массой уменьшенных аккордов (могущих разрешаться куда пожелаешь), включением неожиданных, «нелогичных» мелодических тонов и звуков, непривычной для той эпохи гармонической и ритмической остротой, разительно свежими секундовыми ходами и движениями, «неклассическими» хроматизмами. А в предпоследнем (пятом) эпизоде – поразительное тональное «скольжение», начинающееся с соль минора, далее почти поступенно – с захватом многодиезных и многобемольных сфер. Плюс странный уменьшенный септаккорд, придающий всему эпизоду состояние подвешенности! Играл и, казалось, что эта Фантазия – прыжок в какое-то иное столетие и измерение.
Приблизительно такая же история (открытие) произошла у меня и с Альбаном Бергом, которого долгое время числил аутсайдером в когорте нововенцев, особенно в сравнении с Антоном Веберном, пока не столкнулся с «Лирической сюитой». Возможно, потому и подумалось: а что если взять тройку венцев – Гайдн, Моцарт, Бетховен – и тройку нововенцев – Шенберг, Веберн, Берг – и сопоставить каждого с каждым? И ведь выйдет тогда, что Вольфганг Амадей, скорее всего (во всяком случае, для меня) близок и соотносим с искусством (и его пониманием) Берга.
Взять то, с каким азартом классик сопрягал в эпоху тотального господства гомофонного письма полифоническую технику с гомофонно-гармонической, более всего в сочинениях позднего периода (где-то с середины 1780-х); и как это ему интересно, оригинально, легко и просто (кажется) давалось. (Правда, чаще всего данный технологический сплав связывают с тем, что произошел он в результате запоздалого знакомства с опусами Генделя и Баха-отца. И такой монументальный специалист по Моцарту, как Герман Абель, назовет это «всестилистическим переломом».)
Или то, сколь искусно и парадоксально совмещал в своем творчестве симфонические открытия мангеймцев: тут и резкость интонационных контрастов, и внезапность перепадов «тихо – громко», и внедрение кларнетовых партий в оркестровую ткань, и – расхожие принципы инструментальной музыки своей эпохи. Или то, как умудрялся сочетать разное и противоречивое в последних операх: от идей, сюжетов, образов, драматургических движений и развитий (даже философий и религиозных контекстов) до тончайшего психологизма, новаторства вокальных и оркестровых партий и голосов (тот же эффект двух оркестров в финале «Дон Жуана», что спустя столетия назовут предвестием «пространственной», или «стереофонической» музыки). Или то, как буквально играл с формами и структурами, соединяя, наполняя и насыщая их друг другом (финал «Юпитера» с пронизывающей сонатность тройной фугой).
 Теперь к Бергу. С каким энтузиазмом он, вопреки шенберговским запретам и директивам, совмещал атональное, серийное и традиционно-тональное письмо: тонко, талантливо и как-то легко, изящно! Как, опять же наперекор ортодоксии и канону, если требовал замысел – применял полисерийный метод, подразумевающий использование нескольких серий, выведенных из одного корня. И каждая выведенная играла немалую роль в композиционно-драматургическом построении. Глубоко почитая учителя, Шенберга, тем не менее пристально изучал его антипода – Дебюсси (чье инструментальное влияние на Берга было существенно на всех этапах творчества). В самых атональных, атематичных опусах умел не терять впечатляющей мелодичности, интонационности и даже некоей кантиленности своей музыки. И при редкой для нововенцев открытой эмоциональности, чувственности и поэтичности языка слыл едва ли не «математическим» (по Булезу) композитором.
Теперь к Бергу. С каким энтузиазмом он, вопреки шенберговским запретам и директивам, совмещал атональное, серийное и традиционно-тональное письмо: тонко, талантливо и как-то легко, изящно! Как, опять же наперекор ортодоксии и канону, если требовал замысел – применял полисерийный метод, подразумевающий использование нескольких серий, выведенных из одного корня. И каждая выведенная играла немалую роль в композиционно-драматургическом построении. Глубоко почитая учителя, Шенберга, тем не менее пристально изучал его антипода – Дебюсси (чье инструментальное влияние на Берга было существенно на всех этапах творчества). В самых атональных, атематичных опусах умел не терять впечатляющей мелодичности, интонационности и даже некоей кантиленности своей музыки. И при редкой для нововенцев открытой эмоциональности, чувственности и поэтичности языка слыл едва ли не «математическим» (по Булезу) композитором.
Впрочем, технологических параллелей и аналогий с Моцартом можно набрать у любого большого мастера и музыканта. И все будут уместны, и со всеми можно будет обнаружить и протянуть творческо-историческое сходство поиска и реализации. Но с Бергом, на мой взгляд, все-таки что-то особое, что-то совсем близкое и родственное. Ибо есть нечто такое, что объединяет Моцарта и Берга более всех иных.
Постмодернизм без комплексов
Моцарт и Берг были предтечами постмодернизма: один за два, другой за полвека до его появления. Понимаю, что с Моцартом, возможно, кого-то эпатирую и шокирую, но ведь и отношение к музыке автора Alla Turka не может быть неизменным, неподвижным и окостенелым. Это как память, которая, как и все прочее в организме, способна к развитию и изменению настолько, что одно и то же место, где ничего не изменилось, спустя годы видится и воспринимается совсем не по-прежнему, а зачастую и противоположно. Так и отношение к творчеству Моцарта: мобильное, подвижное и, в принципе, всякий раз другое, отличное от предыдущего. Сегодня, в частности, такое: Моцарт – предтеча постмодерна!
Однако подвижность подвижностью, но за каждым из изменений должно стоять какое-то обоснование.
Итак, Моцарт. Послушайте, сколь блистательно синтезирует он в своих поздних опусах, особенно в оперных, ранее не сочетаемое и немыслимое. Трагедию и фарс, буффонаду и реализм, религиозно-философские идеи с клоунадой и гротеском, зингшпиль и итальянскую традицию, национальное и космополитическое, сатирическое и нравоучительное, гуманистическое и бесчеловечное, светское и масонское, господское и лакейское, этическое и греховное. Как чисто по-постмодернистски перетолковывает идеи и образы, превращая зло в добро, а тьму в свет – в той же «Волшебной флейте, где перемешано и перетолковано все, что только можно и что, по сути, сегодня бы назвали неким фьюжном. (К слову: Эмануэль Шиканедер в качестве основы либретто выбрал поэтическую сказку Кристофа Виланда «Лулу». Вопрос: имел ли в виду Берг некий тайный умысел, завуалированный отсыл к моцартовскому шедевру, выбирая в качестве своей незавершенной и совсем не поэтической оперы то же самое название – «Лулу»?) Сколь часты в его операх эти невероятные смешения важно-рыцарского и откровенно насмешливого, пламенно-страстного и уныло-тоскливого, какой-нибудь слезливой мечты и жесткого хохота. Но самое что ни на есть постмодернистское в моцартовском искусстве – это постоянное ощущение внутренней иронии, улыбки, а порой и авторской насмешки: и над всем происходящим, и над каждым персонажем и образом. Чуть перефразировав Умберто Эко – в постмодернизме «книги общаются между собой», – можно предположить, что у Моцарта между собой общаются разные степени авторской иронии.
Теперь снова к Бергу и вновь о том, что он фактически первый, кто стал синтезировать прежде недозволенное: тональность и атональность, серийность и полисерийность. Но и помимо этого в творчестве нововенца столь мощный сплав разного и исключающего, что зачастую в тех же «Воццеке» и «Лулу» сложно отличить высокое от низкого, банальное от неординарного, духовное от площадного, добро от зла, плохое от хорошего, порочное от целомудренного, нормальное от аномального да и просто человеческого. По сути ряд берговских сочинений – это весьма близкие к постмодернистскому мышлению сочетания и соединения того, чего сочетать, думалось, нельзя и противопоказано. В «Воццеке» или «Лулу» наворочено и собрано так много, что хватит на десятки театральных опусов; или в завершающем творчество Скрипичном концерте совмещены абсолютно различные баховский хорал Еs ist genug и простая каринтийская народная мелодия. Правда, в отличие от постмодернистов, Берга по-настоящему заботит, чтобы все крайности и противоположности его музыки не вносили разноголосицы и плавно вписывались в течение и развитие композиционного процесса. Неслучайно Стравинский говорил, что если бы не органически чуждый ему «эмоциональный климат Берга», то он бы «считал его самым одаренным конструктором форм среди композиторов нашего столетия».
Ну а если взять чисто музыкальную специфику обоих композиторов. Вот Моцарт, непринужденно и весело тасующий жанры, вводящий в них новые элементы, придающий неожиданные мелодические, гармонические и ритмические свойства и в итоге созидающий нечто жанрово неведомое и незнакомое. Или замечательным образом соединяющий музыкальные принципы барокко и классицизма с элементами импровизационности и логической стройности и прозрачности. А вот Берг со своеобразием мелодического и «синтетического» языка в «Трех пьесах» для большого оркестра (Прелюдия, Хоровод, Марш); или удивительно совмещающий разные формы и конфигурации: тут и расхожая танцевальность, маршеобразность, песенность, но и формы доклассические, вариационные, полифонические, сонатные – в пределах одной сцены или эпизода.
Вот Моцарт, «без комплексов» обращающийся даже в самой серьезной музыке к жанрам, интонациям, мелодиям и ритмам музыки несерьезной, развлекательной, едва ли не кабацкой. И все это просто и естественно вписывающий в любые контексты и структуры. А вот Берг, также «без комплексов» внедряющий в свой экспрессионизм то, что назвали бы жанрами, ритмами и интонациями низкопробными и недостойными высокой звуковой материи.
Есть и еще одна вещь, которая роднит обоих мастеров. Моцарт и Берг из венцев и нововенцев были, по-моему, самыми венскими композиторами. Теми, в чьем творчестве сам дух многонациональной, многоликой, разнородной, разномузыкальной, разнотемпераментной, разнохарактерной, разнотанцевальной, разнопесенной Вены был схвачен, отражен и воплощен наиболее полно, ярко и многопланово. И, пожалуй, в этом тоже нечто предпостмодернистское, когда в творчестве нет краеугольного деления на то, что академическому композитору можно, а что ему, витающему в высочайших музыкальных эмпириях, категорически нельзя!
P.S. Явление Моцарта в истории человечества намного больше, важнее и значимее явления какого-нибудь полководца, монарха, императора, президента, так как Моцарт преодолевает видимость мира, открывая нечто сущностное, исконное, потерянное не только человеком, но миром в целом. Поэтому и свобода его связана не с миром, не с людьми, не с чем-то внешним, но заключена лишь в самом себе. Это свобода пророка или святого.
Поделиться: