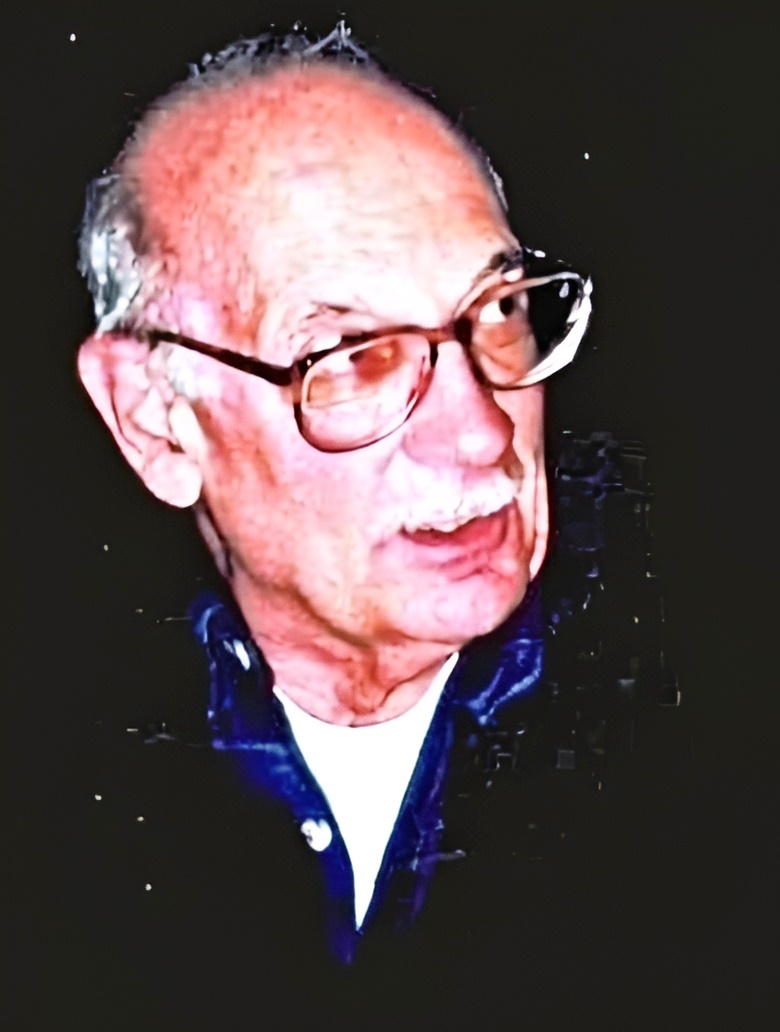…Джордж Крам в своем ощущении музыки идет дальше такого ценителя музыкального, как отец структурной антропологии Клод Леви-Стросс, который видит в музыке начало начал, из чего произросли и язык, и речь. Наш же герой из музыки выводит не только речь и язык, но и науку с религией. И вместе с тем, подобно великому антропологу, Крам, придавая музыке некую неуловимость и непостижимость для аналитического и разумного осознания, ибо музыка есть нечто невыразимо духовное, магическое и сверхчувственное, наделял ее той самой эзотеричностью и сакральностью, которая только и способна из всех искусств, наук и религий к передаче мировых и человеческих тайн, загадок, внутренних импульсов, мотивов и желаний. Музыка как абсолют, где являет себя непознаваемое и неисследуемое. Впрочем, более Леви-Стросса, американский композитор сближается с мыслью другого могучего интеллекта, Артура Шопенгауэра, о том, что не будь даже причинно-следственного ряда, не будь даже нашего мира вовсе, музыка все равно жила бы, независимо ни от чего.
Круговая музыка
И все же параллелей и ассоциаций с французским антропологом у композитора больше, чем с немецким философом. Особенно с одной из самых значимых книг Леви-Стросса из четырехтомника «Мифологики» — «Сырое и приготовленное». Книгой, где, проанализировав порядка двухсот мифов, антрополог пришел к выводу, что в основе большинства мифологий лежит понятие бинарных оппозиций и что природа этих бинарностей есть соотношение сильного — слабого, мужского — женского, авторитарного — стадного, волевого — безвольного. И где одно либо подавляет другое, либо управляет им. И что результатом этих бинарностей становится рождение нового качества и смысла (подобно тому, как в структурной лингвистике из речи абстрактной и живой возникает речь литературная). Так и в творчестве Крама, которое буквально пронизано бинарностями. От бинарности первичного, архетипического материала и современных композиционных технологий, бинарности музыки своей и цитатно-коллажной, бинарности нотозаписи традиционной и графической, бинарности театрального и ритуального, бинарности в использовании языков (структурная билингва), бинарности звука естественного, природного и звука искусственного, придуманного, и до бинарности разно толкуемого хода времени, и до бинарности ирреального и реального, и до бинарности мифологического и настоящего, маскарадного и неприкрытого. И так же, как у Леви-Стросса, из бинарностей Крама образуются иные качества и смыслы.
Однако разнится композитор с антропологом, пожалуй, в самом главном. Мифы фактически возникают и существуют вне времени, они функционируют в сплошном вневременном пространстве. И в них отсутствует основное человеческое противоречие, основная наша двусмысленность и бинарность — времени и пространства. Тогда как у Крама это, на мой взгляд, — решающая бинарность всего творчества. Данной бинарностью, возможно, объясняется и то, что композитор старался не применять способы компьютерной нотации, изображая собственные ноты. В интервью 2016 года он сказал, что у него «нет иных художественных навыков, кроме музыкальной каллиграфии», позднее, добавив: «Я просто думаю, что музыка должна выглядеть так, как она звучит». И круговой способ нотозаписи, круговое течение музыки, скорее всего, и есть, по Краму, победа, точнее — преодоление кругом-пространством конечности, временности времени, и, значит, вместе с пространством вечным становится и круговой ход музыки. Ну или идея музыкального. Правда, здесь мы снова возвращаемся к Шопенгауэру с бытием музыки, даже не будь никакого мира. Прямо замкнутый круг, как круговая музыка Крама...
Мировая музыка
 Крама считают одним из создателей world musik. Что он и сам, видимо, не отрицал, написав еще в 1980-м эссе, где рассуждал о том, что «общая музыкальная культура планеты Земля собирается воедино». А спустя несколько десятилетий, уже в интервью 2017-го, констатировал, что этому курсу с «включением в свою музыку звуков самых разных культур» он следовал на протяжении всего творчества. Потому и неудивительно, что с Крамом связывают не только идею, но и само развитие world musik. Ибо по сути своей творчество композитора — один большой, бесконечно длящийся мировой музыкальный ритуал одной огромной мировой общины. Ритуал со всеми своими составляющими. С заклинаниями и экстатичными обращениями к высшим силам, колдовским камланием и ликами-масками, голосами природы и стихий, элементами танцевальности и театральности, мимическими и речевыми планами, магическими и обрядовыми действами, таинственными и эзотерическими движениями, вскриками и бормотаниями, спонтанными возгласами и пением... И все, как и в ритуале, — в пределах некоего священного поля, очерченного композитором-шаманом. Вообще, тема ритуального у Крама неисчерпаема, поэтому охватим лишь один ее аспект.
Крама считают одним из создателей world musik. Что он и сам, видимо, не отрицал, написав еще в 1980-м эссе, где рассуждал о том, что «общая музыкальная культура планеты Земля собирается воедино». А спустя несколько десятилетий, уже в интервью 2017-го, констатировал, что этому курсу с «включением в свою музыку звуков самых разных культур» он следовал на протяжении всего творчества. Потому и неудивительно, что с Крамом связывают не только идею, но и само развитие world musik. Ибо по сути своей творчество композитора — один большой, бесконечно длящийся мировой музыкальный ритуал одной огромной мировой общины. Ритуал со всеми своими составляющими. С заклинаниями и экстатичными обращениями к высшим силам, колдовским камланием и ликами-масками, голосами природы и стихий, элементами танцевальности и театральности, мимическими и речевыми планами, магическими и обрядовыми действами, таинственными и эзотерическими движениями, вскриками и бормотаниями, спонтанными возгласами и пением... И все, как и в ритуале, — в пределах некоего священного поля, очерченного композитором-шаманом. Вообще, тема ритуального у Крама неисчерпаема, поэтому охватим лишь один ее аспект.
Крам из тех авторов, для кого единость всего человеческого — вещь наипервейшая! И чем дальше мы уходим от своих истоков, тем острее потребность в осмыслении нашего некогда общечеловеческого прошлого. Ну а что есть наше общечеловеческое прошлое, как не времена ритуальных представлений и пониманий, обрядовых экзистенций и откровений? Времена, когда ритуал свершался не только с целью задабривания природы, божества или тотема, мольбы и гимна небу, солнцу или дождю, но и как шанс увидеть в окружающем мире некую целесообразность и причинность, мотивировав тем самым и смысл собственного бытия. Времена, где ритуал, всякий раз продолжая миропознание, одновременно был и возвращением назад, к корням, чему-то исконному. В том, наверное, и заключалось неизменное, субстанциональное значение ритуала как перманентно повторяющегося и обновленного источника жизненной, духовной силы, энергии и знания, как постоянного обращения к единому праначалу.
Одновременно, апеллируя к ритуалу, Крам, подобно своим расширенным техникам, значительно расширяет и ритуальное пространство, простирая понятие ритуала от архаики до современности. Наверное, этим можно объяснить то, что, наряду с привычным для world musik вбиранием в себя разнонациональных песен, мелодий и ритмов, спиричуэлсов, церковных псалмов и гимнов, храмовых тибетских и японских колоколов, игрушечного пианино, музыкальной пилы, губной гармоники, животных и человеческих звуков, композитор не менее активно включает и весьма далекие и от world musik, и от всякой ритуальности цитаты и коллажи из Баха, Шуберта, Шопена, Дебюсси, Малера, Бартока, Р. Штрауса, даже джазмена Телониуса Монка. Не знаю, подозревал ли Крам о коллективном бессознательном Юнга, однако то, что расширенным толкованием ритуала как чего-то пространственно-панисторического он явно расширил и сферу коллективно-бессознательного, сводящегося у Юнга лишь к чему-то архетипическому и символическому. Но что более всего у Крама интригует, так это единочность и оригинальность его стиля и письма при такой ритуально-тотальной мешанине всего и вся! Каким таким чудесным образом при бьющей эклектике и многочисленных поли музыка Крама сохраняет свои родовые пятна и отметины?! Прояснить этот феномен сложно, а в пределах одного текста и вовсе исключено. Поэтому могу лишь предположить, что наиболее выпукло и ярко пятна-отметины эти в крамовском творчестве выражены в его неповторимой темброфактурности и тембросонористике, объединивших в себе как сонористические принципы современного композиторского письма, так и богатейшие тембровые специфики музыки разных традиций и культур. Пожалуй, именно этот сонорно-фактурно-авангардно-поликультурный сплав и придает крамовскому звучанию уникальный строй и характер. Возможно, благодаря такому, казалось, невозможному тембросонорному контенту, в музыке Крама любые композиционные методы, элементарные или экстремальные, — от шороха, шума, скрежета, скрипа, гула, крика и свиста до беззвучия и тишины, от авангардных конструкций и структуралистических крайностей до наивных мелодий и напевов, от массивно-звуковых нагромождений до чистоты простых интервалов и игры обертонов, от неоднозначно расширенных инструментальных приемов, охвативших большинство академических инструментов, до «примитивности» варгана или банджо, от экстатичной мощи долбящих изо всех сил четырех бас-барабанов и криков китов до исполнения на бытовых предметах — не просто являются естественной частью опусов. Тут нечто иное, нечто допустимое лишь на интуитивном, подсознательно-бессознательном уровне: Крам чувствует, Крам созидает исключительно этим радикально-авангардно-наивно-прозрачно-уорлд-мьюзик синтезом.
Музыка в подробностях
 Возьмем один из знаковых опусов композитора — Black Angels («Черные ангелы», 1970) для электрически усиленного струнного квартета. Опус-протест, опус-комментарий, опус-впечатление об ужасах и трагедиях войны во Вьетнаме. Опус, охарактеризованный автором как «своего рода притча о нашем неспокойном мире». Опус, где бинарность света и тьмы есть метания души, приводящие и к ее духовному концу, и одновременно к очищению-искуплению. Опус, где неразделимый замес сонорности, экстремальных способов звукоизвлечений (вплоть до постукиваний по струнам наперстками), использование ударных инструментов и маленьких кубков, игры на изогнутых стаканах для воды, экспрессивной устной речи и традиционных для струнных инструментов приемов и штрихов, несонорных фактур, мелодических линий и ходов — все для того, чтобы в кульминации прозвучал печальный фрагмент струнного квартета Шуберта «Смерть и дева», обрываемый ожесточенными человеческими возгласами и ударами смычков... Black Angels произвел столь сильное впечатление на такого рок-новатора, как Дэвид Боуи, что мастер психоделического и арт-рока назвал сочинение Крама одним из своих любимых, написав, что «это исследование духовного уничтожения... напугало меня до полусмерти». Для нас же занимательней то, что в Black Angels композитор сохранил не только синтетическую ритуальность жанра (сплав звука, речи, театральности, ударности и яростной экстатичности), но и присущие его письму взаимодействия и взаимопроникновения разных тембросонорных и темброфактурных элементов.
Возьмем один из знаковых опусов композитора — Black Angels («Черные ангелы», 1970) для электрически усиленного струнного квартета. Опус-протест, опус-комментарий, опус-впечатление об ужасах и трагедиях войны во Вьетнаме. Опус, охарактеризованный автором как «своего рода притча о нашем неспокойном мире». Опус, где бинарность света и тьмы есть метания души, приводящие и к ее духовному концу, и одновременно к очищению-искуплению. Опус, где неразделимый замес сонорности, экстремальных способов звукоизвлечений (вплоть до постукиваний по струнам наперстками), использование ударных инструментов и маленьких кубков, игры на изогнутых стаканах для воды, экспрессивной устной речи и традиционных для струнных инструментов приемов и штрихов, несонорных фактур, мелодических линий и ходов — все для того, чтобы в кульминации прозвучал печальный фрагмент струнного квартета Шуберта «Смерть и дева», обрываемый ожесточенными человеческими возгласами и ударами смычков... Black Angels произвел столь сильное впечатление на такого рок-новатора, как Дэвид Боуи, что мастер психоделического и арт-рока назвал сочинение Крама одним из своих любимых, написав, что «это исследование духовного уничтожения... напугало меня до полусмерти». Для нас же занимательней то, что в Black Angels композитор сохранил не только синтетическую ритуальность жанра (сплав звука, речи, театральности, ударности и яростной экстатичности), но и присущие его письму взаимодействия и взаимопроникновения разных тембросонорных и темброфактурных элементов.
В том же 1970-м был создан цикл песен на тексты Лорки Ancient Voices of Children («Древние голоса детей») для сопрано, мужского сопрано (разновидность контратенора), гобоя, мандолины, арфы, усиленного фортепиано, игрушечного пианино и ударных. Опус, хотя и не имеющий прямого обращения к ритуалу, так или иначе ассоциации с ритуалом вызывающий. Неслучайно включение в партитуру наряду с европейскими инструментами уорлд-мьюзиковских тибетских молитвенных камней и культовых японских колоколов. Как неслучайны и непривычно тягучие пассажи гобоя или таинственность вокальных голосов. Как неслучайно появление во втором разделе IV части названия Ghost Dance («Танец призраков»), отсылающего к ритуальным танцам, свойственным для разных индейских племен и традиций.
Столь же показателен и не менее культовый опус Крама — Vox Balaenae («Голос кита», 1971) для электрифицированных флейты и виолончели и усиленного фортепиано. Опус, вдохновленный записанными океанологами песнями горбатых китов и представший, с одной стороны, ритуально-театрализованным действом с черными масками на исполнителях, сине-голубым освещением сцены, мимическими движениями музыкантов, с другой — применением новых технологий, радикально расширяющих приемы инструментальной игры, ансамблевой экстравагантности, вплоть до перебирания фортепианных струн железной скрепкой (сближающейся по звучности с криками китов). Иным эффектом «голоса кита» является особое слияние флейтиста с флейтой, когда музыкант напевает в инструмент, используя его как некий резонатор звука. И снова у Крама едва ли не эзотерическое вплавление природного, животного, маскарадного в авангардно-экстремальное и ультрасовременное. Чем вам, к примеру, не демонстрация такого сплава, как воссоздание в Vox Balaenae птичьего крика (морской чайки) искусственными флажолетами электрической виолончели?!
Не менее ритуально-авангарден еще один опус 1971-го — Lux Aeterna («Свет вечный») для сопрано, басовой флейты, сопрановой блокфлейты, ситары и ударных. Правда, здесь композитор еще более акцентирует эффект театральности, рекомендуя, помимо зажигания свечи в круге сцены, еще и участие солиста-танцора, который с повторением одного и того же эпизода (близкого рондальному рефрену) должен заново начинать свою пляску. К синтезу ритуального, уорлд-мьюзиковского и авангардного в Lux Aeterna отнесем также шепот-камлание флейтиста и ситариста, чистые бурдоны ситары, даже позу лотоса у исполнителей на флейте и ситаре, постоянно разбавляемых, дополняемых, сочетаемых с нестандартными приемами игры, звукоизвлечениями и сонорными фактурами. Да, не забыть бы и крамовский цвет данного произведения — он красный.
Понимаю, что версия о «вечной» ритуальности музыки Крама может показаться спорной и неоднозначной. Но для меня это аксиоматично: если хронологически выстроить и исполнить все композиции американского мастера в долгой последовательности, то могу допустить, что у многих, как и у меня, сложится впечатление: один ритуал перетекает в другой, а этот в следующий, а следующий в очередной и так далее. Впрочем, лучше все-таки, если уж выстраивать хронологию крамовской ритуальности, начинать с 1967 года, с «Процессий для оркестра», имеющих подзаголовок Echoes of Time and the River («Эхо времени и реки»). Здесь элементы современного театра и театра инструментов, возможно, впервые у Крама органично перемежаются с невнятностью на грани камлания и речи, фонем и слогов, а активное, строевым шагом, маршеобразное движение по сцене оркестрантов не столько противопоставляется, сколько наполняет иным контекстом отзвуки-отголоски некоей (утерянной? забытой?) процессии.
Макрокосмический ритуал
Коротко остановимся еще на, пожалуй, наиболее известном и одновременно самом протяженном по времени написания крамовском цикле — «Макрокосмосе» для расширенного, увеличивающего темброзвуковые возможности фортепиано. Цикл, четыре тетради которого создавались композитором с 1972-го по 1979 год и ассоциативно отсылающий к «Микрокосмосу» Бартока. Другая ассоциация — с «Прелюдиями» Дебюсси из двух книг. Однако, при всей любви Крама к Бартоку и Дебюсси, замысел его большого цикла весьма далек от циклов венгра и француза.
Начать с того, что в первых двух книгах (1972, 1973) каждая из 24 пьес (12+12) имеет конкретный адресат-посвящение (есть даже посвящение самому себе). И именно в первых двух книгах Крам наиболее активно применяет новаторские приемы игры на расширенном фортепиано. Из значительного их количества выделим перебирание струн, постукивание по деке, использование полосок бумаги и стеклянных стаканов, погружение рук в чрево инструмента и извлечение оттуда шумов... Отметим также контрастный диапазон динамических оттенков — от рррр до ffff. И добавим, что, помимо недюжинного чисто пианистического уровня, от исполнителя требуется немалое актерское мастерство, так как необходимо воспроизводить ту или иную эмоцию, стонать, шептать, кричать. И не просто все это актерство воплощать, но и придерживаться ритмического дыхания, то ли мычать, то ли пропевать некие магические слова, умело насвистывать определенные звуки и ритмы. Особо в этом плане впечатляет вторая тетрадь — как сказала одна пианистка, буквально выжимающая из нее всю энергию. Возможно, поэтому и ритуальный характер крамовской музыки более ярко обозначен в двух этих первых книгах. Видимо, этим же обусловлено и то, что обе книги имеют один и тот же подзаголовок: «12 фантастических пьес по Зодиаку». Причем каждая из 24 пьес, посвященная одному из зодиакальных знаков и имеющая конкретный адресат, содержит еще и свое программное название: «Первозданные звуки», «Протей», «Пастораль» и так далее. То есть «Макрокосмос» Крама, подобно надвременному пространству, приобретает значение некоего общечеловеческого ритуала, вместившего в себя человеческие истоки, историю, природу, символизм, небо — землю, теперешнюю модернистско-постмодернистскую современность, где первобытное неотделимо от современного, а мистическое и призрачное — от реального и настоящего. Добавьте к этому и то, что в «Макрокосмосе» композитор цитирует Бетховена, Шопена, создает аллюзии на музыку классиков и романтиков, использует фактуры, напоминающие Дебюсси, Бартока и Мессиана, и, думаю, картина человеческой всемирности предстанет воочию.
Что уж говорить о крамовской нотации «Макрокосмоса»!.. Разве не напоминает она некий повторяющийся ритуал, правда, на основе новейшей графической нотации, когда в первых двух книгах финал каждой пьесы прорисовывает контур креста, круга или спирали?!
Третья и четвертая книги цикла весьма отличаются от двух первых. Если начальные предназначались для фортепиано соло, то третья («Музыка летнего вечера», 1974) и четвертая («Небесная механика», 1979) создавались для двух усиленных фортепиано и ударных (третья) и для усиленного фортепиано в четыре руки (четвертая). Однако и в этих книгах связь авангардного, современного с архитепическим и первозданным по-прежнему актуальна. Объясняется это, видимо, тем, что по-иному Крам сочинять музыку уже не мог.
…Если вспомнить постулат Макиавелли о том, что «Закон должен следить за будущим, а не за прошлым», то творчество Крама — прямое опровержение этого постулата. Закон творчества Крама — умение одинаково азартно следить и за прошлым, и за настоящим, и за будущим. Закон творчества Крама — ощущать и понимать зыбкость, сиюминутность каждого нашего мгновения и одновременно его вечность и непреходящесть.
По философу, культурологу Мирче Элиаде «миф нельзя путать с историей». Но и это не про творчество Крама. Здесь с мифом смешивается не только история, но и разные традиции, языки, течения и технологии. И выясняется, что одно немыслимого без другого, что одно — всего лишь часть, единица чего-то общего.
P. S. Говорят, наши недостатки есть продолжение наших достоинств. И порой ритуальность, уорлд-мьюзиковость крамовского искусства граничит с банальным эмбиентом или нью-эйджем. А его сплав всего и вся, по мнению критика Джона Рокуэлла, лишает композитора индивидуальности и «стилистической самости». Так ли это? При всей спорности допустимо. И все же музыка Крама совсем не об этом. Она о том, чтобы научить нас воспринимать мир чуть дальше, чуть больше, чуть свободнее от нашего разума и наших представлений о мире.
Поделиться: